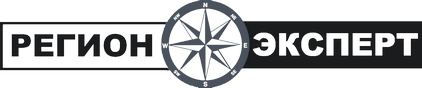Интервью с Михаилом Эпштейном – об истории России как тысяче лет одиночества, кремлевской панфобии и о том, как превратить распад империи в фактор цивилизационного роста
– Михаил Наумович, Вы еще в 1990 году написали статью «О Россиях», которую можно назвать манифестом российского регионализма. Как Вы оцениваете эти идеи сегодня? Россия с тех пор так и не стала многообразным континентом, но наоборот – «ордынское» начало, кажется, победило…
– Начну с оговорки: я не политолог и тем более не политик, поэтому могу обо всем этом судить лишь с позиций социальной философии и культурологии.
Чем больше разных Россий возникнет на территории РФ, тем лучше для самой России, для российской цивилизации. Сейчас Федерации как таковой, кажется, вообще нет. Нет этих 85 субъектов, которые по Конституции якобы составляют федерацию. Не действует 4-ый пункт 5-ой статьи Конституции: «Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны».
На самом деле все т.н. субъекты теперь являются объектами московской власти. РФ — это система колониального управления: центральная власть, Кремль, собирает дань со всех российских земель и посылает им своих наместников. Сообщество российских земель, совместно с международным сообществом наций, должно критически оценить эту (авто)колониальную систему, которая противоречит нормам политической демократии 21 века.
– Почему идеи федерализма в постсоветской России не прижились? Это целенаправленная политика власти или имперская традиция сработала спонтанно и «автоматически»?
– Имперская традиция диктует целенаправленную политику, которая в свою очередь опирается на имперскую традицию. История России — это тысяча лет одиночества. Такая огромная, малозаселенная, маловозделанная, но до зубов вооруженная страна просто не может на равных общаться с окружающими странами. Она воспринимает их как данников либо как врагов. Вот и теперь она стремится их поглотить — или сама распасться на регионы, тяготеющие к другим территориям и этносам.
Какой исход более вероятен, зависит от плотности цивилизационного вещества внутри страны. Грубо говоря, эта плотность определяется отношением созданного к первозданному: достижений цивилизации, суммы произведенного (в экономике, технологии, культуре и т.д.) — к природным условиям (включая размер территории, залежи полезных ископаемых и т.п.). Если цивилизационная плотность выше критического порога, страна может сохранить тенденцию к расширению, если ниже — разорвется от внутренней возрастающей пустоты.
Между тем плотность цивилизации в России снижается: образуются демографические ямы, происходит депопуляция, деградирует экономика, исчезают деревни и малые города, обитаемая территория сжимается вокруг мегаполисов, с огромными пустотами между ними и неразвитостью транспортных путей. Если цивилизационная плотность падает ниже критической отметки, империи угрожает распад. Можно ли его предотвратить? Этим страна занималась весь последний век — и не слишком успешно. Проблема в том, как превратить этот распад империи в фактор цивилизационного роста.
– Сохраняется ли, на Ваш взгляд, культурное многообразие российских регионов сегодня? Может ли оно в перспективе проявиться политически?
– Перспектива множественных Россий подкрепляется региональными процессами, хотя более медленными, чем представлялось 25-30 лет назад. Хочется верить, что слабосильные ныне регионы России смогут обрести в будущем социально-экономическую и особенно культурную самостоятельность. Сейчас этот процесс регионализации идет, хотя и не очень интенсивно. Ярославль, Рязань, Кострома, Углич, Орел, Тула, Калуга – везде делаются попытки подчеркнуть местный колорит, культурную специфику, пусть хотя бы в целях привлечения туристов. Крошечный город Мышкин – но и у него уже есть своя мифология и традиции.
Когда все эти локальные культуры почувствуют почву у себя под ногами, обретут права субъектов, они смогут образовать Российский Союз, подобно Европейскому Союзу, объединяющему европейские страны. Это можно представить как постепенное усиление федеративного или даже конфедеративного начала. Речь идет не о сепаратизме, но именно о регионализме, о самостоятельном и опережающем развитии регионов, которые могли бы вступать в прямые культурно-экономические связи, не обязательно опосредованные Москвой. Стране нужна система координат, состоящая не только из одной вертикали, но и из многих горизонталей. Цель — не разделение России, а умножение Россий.
Конечно, поскольку европейские этносы (английский, французский и т.д.) свободно развивались с феодальных времен, они гораздо раньше успели оформиться в нации, но не исключаю, что нечто подобное в 21-22 вв. случится и с северо-западной Россией, и с Уралом, Поволжьем, Сибирью… Россия мне видится как союз многих Россий, который мог бы стать равномощным Европе в целом и в перспективе объединиться с ней во Всеевропейский Союз. Россия как унитарное государство вряд ли может «уместиться» в Европейском Союзе, а несколько разных Россий могли бы стать соизмеримы с отдельными европейскими странами. Например, Новгородско-Псковская или Петербургская Русь могли бы уважительно и продуктивно общаться с прибалтийскими республиками и с Польшей, что у нынешней России не слишком получается.
– В 2016 году в Киеве вышла Ваша книга «От совка к бобку. Политика на грани гротеска». Хотя она посвящена в основном российской ситуации, в России ее до сих пор не издали. Что так напугало издателей?
– Эта книга — о переходе советского к постсоветскому, к новому психо-социальному типу, который я назвал по рассказу Ф. Достоевского «Бобок». Там действие происходит на кладбище и слышны голоса мертвецов, бесстыдно обнажающих свою душевную гниль и повторяющих: «бобок», «бобок». Этот бессмысленный звук — последний вздох отходящего исторического организма. «Бобок» — имперский стиль после Крыма, как декаданс конца 19 века или авангард 1910–1920-х гг. Это клич последнего бесстыдства, когда уже все дозволено, потому что смерть все спишет.
Отправная историческая точка книги — Майдан и Крым. То, что случилось с Украиной,— важнейшая страница в истории новейшего «регионализма», т.е. фрагментации империи. Ньютоновский закон: действие равно противодействию — приложим не только к физическим, но и к историческим явлениям. По тому, с какой силой Россия после 2014 г. оттолкнулась назад, в свое прошлое, можно оценить силу порыва, с какой Украина устремилась в будущее. Льдина огромной империи раскололась, и по дрейфу одной ее части можно судить о траектории другой. У меня с Украиной связана надежда на новую историческую судьбу восточнославянских народов, их свободное вхождение в европейскую семью.
Эти послекрымские годы подводят итог не только советской и постсоветской эпохе, но всему трехсотлетнему — от Петра І — проекту присоединения России к западной цивилизации. То, что называлось Россией, теперь разделилось на Киевскую Русь, отходящую к Западу, и Ордынскую Русь, которая уходит в глубь допетровской Московии и для которой просто не остается места в 21 веке. Но если Россия все-таки обретет свое достойное место в современной цивилизации, на что я не перестаю надеяться, — это будет место рядом с Украиной, которая — уже как старшая, а не младшая сестра — прокладывает ей путь на Запад.
К российским издателям я не обращался, понимая, что вряд ли их заинтересует такой подход. Хорошо, что книга все-таки доступна российским читателям — например, на Озоне.
– Можно ли считать современную Россию постмодернистской империей, учитывая невероятную идеологическую эклектику власти, где сочетается советизм и клерикализм?
– К постмодернизму она не имеет никакого отношения. Постмодерн в высшей степени критичен в отношении любых империй и поощряет многосубъектность, множественность традиций, перспектив, картин мира. Постмодерн — как раз то, о чем я говорил выше: много разных Россий, ни одна из которых не претендует на власть над другими и тем более над всем миром.
Что касается идеологической эклектики, этой дикой смеси советизма, монархизма и клерикализма, когда чуть ли не одни и те же уста славят Иисуса Христа, Сталина и Николая II, — то это тоже не постмодернизм, а прямо противоположное: выстраивание нового метанарратива, в котором все, что делаем мы и наши предки, —хорошо, а все, что делают другие, —плохо.
О такой браваде с горечью и насмешкой писал еще А. Солженицын в 1974 г., передразнивая эту идеологию в истоке ее формирования: «коммунизм даже не мыслим без патриотизма; перспективы России-СССР сияющие… что же касается духа, то здесь допускаются любые направления, и православие – нисколько не более русское, чем марксизм, атеизм, естественно-научное мировоззрение или, например, индуизм… Всё это вместе у них называется русская идея. (Точно назвать такое направление: национал-большевизм). «Мы русские, какой восторг!» – воскликнул Суворов».
Почти полвека спустя окончательно оформился этот метанарратив, в котором стирается любая внутренняя дифференциация: логическая, историческая, этническая… Это не постмодернизм и даже не фашизм — гораздо страшнее. Это панфобия, злоба против всего мира (о чем я писал в книге «От совка к бобку» и в последних эссе, опубликованных на сайте радио «Свобода»: Какофилия. О выгодах и провалах зловластия и Новичок. О роли президента в истории). Такая панфобия относится к традиционным «-измам» (коммунизму, фашизму и прочим тоталитаризмам) как ядерное оружие к конвенциональному. Она готова уничтожить не просто враждебные классы или низшие расы, а сразу — весь мир.
«А зачем нам нужен такой мир, если в нем не будет России?» — спросил президент. А еще раньше он заявил, что в марте 2014 г. был готов применить ядерное оружие, если бы мир воспротивился аннексии Крыма. Эти суждения легко суммируются: «А зачем нам нужен мир, если в нем Крым не принадлежит России?» На место Крыма сюда можно поставить Украину, Грузию, Прибалтику, Сирию, да и вообще любое место на земле. Таковы притязания нового метанарратива, обеспеченные ядерным шантажом во всемирном масштабе. Какой уж тут постмодернизм!
– Каков Ваш прогноз развития культурно-политической ситуации в России в ближайшие годы?
– Нынешняя власть своей политикой чрезмерной централизации подталкивает противоположные, центробежные тенденции. Нельзя так упорно и самонадеянно создавать себе врагов по всему периметру — и даже внутри самой страны. Любят ли Кремль в Сибири и на Дальнем Востоке? Или там все яснее понимают, что сотрудничество с Японией и Китаем выгоднее, чем послушание Кремлю, который вытягивает из них все ресурсы и мало что дает взамен. А северо-западная Россия во главе с Петербургом — разве не видно оттуда, насколько финская, скандинавская модель развития успешнее, чем кремлевская, обеспечивает людям мир, свободу, благосостояние, образование, здоровье? Наверно, у татар и башкир тоже есть свои соображения о том, как пересмотреть итоги завоевания Казанского ханства и войти в более тесные связи с другими странами…
В условиях глобальной экономики центральная власть должна бороться за свои регионы, привлекать их умы и сердца, наполнять их кошельки, состязаться за них с окружающими цивилизационными ареалами (европейским, исламским, китайским, японским). Полагаю, что центробежные тенденции еще остро проявят себя, и вопрос в том, возобладают ли они мирным путем или приведут к кровавой междоусобице.
Беседу вел Вадим Штепа