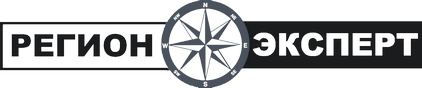Интервью с Александром Морозовым – о причинах отсутствия федерации, городах как политических субъектах и сложности поиска альтернативы
– Александр, насколько мне известно, Вы активно интересуетесь темой регионализма и федерализма в России. В Вашу бытность шеф-редактором «Русского журнала» Вы опубликовали много моих статей на эту тему, хотя для московской публики, даже весьма просвещенной, свойственно скорее централистское мышление. И сегодня оно продолжается – даже многие политэмигранты продолжают мыслить «москвоцентрично». Это какое-то специфическое историческое наследие? Потому что в развитых мировых федерациях (США, ФРГ и т.д.) такого ментального централизма не существует. Почему в постсоветской России не сложилась федерация?
– Федерацию невозможно «сконструировать». Она всегда результат очень специфического и долгого развития. Чтобы была федерация, надо чтобы исторически аристократия отдельных княжеств, сохраняя традиции некоей «хартии вольностей», подписанной при объединении земель, поддерживала ее дух.
Федерация – это взаимовыгодное сосуществование нескольких разных элит со своей историей. В России ничего этого не было. А там, где какие-то региональные элиты в эпоху империи были, они оба раза в условиях кризиса (1917-1920, 1989-1991) сразу откалывались. Отказываясь продлевать «контракт» с российским центром власти.
В России нет никакой «аристократии земель», как в Германии или Британии, поэтому нет и никаких традиций иного устройства власти в регионах, кроме «наместничества». Федерация не может существовать без самостоятельных политических субъектов, которые ее составляют. Поэтому в России вопрос всегда стоит не о «федерации», а о «полномочиях регионов».
Не надо обманываться, когда при Горбачеве употребляли слово «суверенитет», обсуждая Союзный договор, или когда позже Ельцин сказал: «Берите суверенитета , сколько сможете унести» – это имелся в виду не «суверенитет», а просто «подтвержденные Центром полномочия». Историю борьбы за «полномочия» регионов в течение всего советского и постсоветского времени было бы интересно описать, но это не имеет отношения к теме федерации.
Федерализм, возможно, развился бы после буржуазной революции 1917 года, т. е. при демонтаже империи. Это не вышло. А после гражданской войны уже вряд ли можно представить себе, чтобы возникла федерация.
Поэтому если коротко ответить: федерация в России невозможна, поскольку невозможно представить себе такого уровня политической субъектности региональных обществ.
Насчет «москоцентричности». Ну да, это так. Но вся Россия «москвоцентрична» – все едут в Москву работать, все деньги в Москве, вся власть — тоже в Москве, а в московской агломерации 25 миллионов человек. Поэтому дело не в том, что у кого-то «дефектное сознание», а просто в том, что реальность такова. В российских регионах идет своя насыщенная жизнь. Люди живут самостоятельно, планируют свою жизнь. Но там нет никакой «политической жизни» такого масштаба, чтобы всерьез ставить вопрос о федерации.
– Что же это за «насыщенная жизнь» в регионах, если она исключает всякое политическое измерение? Вы много пишете о необходимости перемен в России, но возможны ли вообще какие-то реальные перемены, если в стране сохраняется этот имперский гиперцентрализм?
– Безусловно, Кремль воспроизводит и непрерывно усиливает гиперцентрализм весь период путинского правления. А его нынешний срок президентства многие называют периодом окончательного утверждения «номенклатуры», т. е. совершенно централистской модели управления.
Но одновременно весь постсоветский период менялась роль «политических субъектов». Скажем, в 1987-91 гг. большую роль играла позиция «трудовых коллективов» больших предприятий. А сейчас — их вообще «политически» не существует. Или, например, тогда большую роль играли национальные движения. А сейчас их в России практически не слышно, даже если сравнивать с серединой и концом 1990-х гг.
И если задать себе вопрос: где сейчас сосредоточена «политика» в России, то видно, что Россия — это страна 13 городов-миллионников. Все сосредоточено в больших агломерациях. Именно поэтому, мне кажется, что тема «федерации» сейчас не может звучать так же, как в 1917-1920 или в 1987-1991. Условно говоря, если бы сейчас на этой территории надо было бы подписывать новый договор об учреждении государства, то его подписывали бы не представители автономий и территорий, а руководители агломераций — мегагородов. Политическое будущее российской демократии решается здесь, в этих миллионниках. В них стягивается активное население провинции, или работает в них вахтово, они же притягивают и гигантскую трудовую миграцию из стран бывшего СССР. В этих городах сейчас нет больших активных политических групп. Но в каждом — есть большая современная, прогрессивная среда. И тлеющий конфликт между этой средой и новыми — тоже большими — консервативными слоями. Через несколько лет увидим, чем кончится этот конфликт.
– Сегодня в России мы наблюдаем тотальное насаждение культа прошлого, этакий сорокинский имперско-советский микс (одновременно ставятся памятники царям и Сталину). И на новом сроке Путина этот культ наверняка будет только усугубляться. Как Вы полагаете, пойдет ли однажды исторический маятник в другую сторону и к чему это может привести?
– Это острый вопрос. Ведь не совсем понятно: а в какую, другую? Как себе помыслить эту «другую сторону»? Чтобы остановить дальнейшее расползание этого архаичного, пародийного, эклектичного неоимперского стиля требуется политическое большинство. Потому что только политическое большинство может иметь полномочия «повернуть» маятник в другую сторону. Но пока не видны даже контуры того, как может сформироваться такое большинство (обратное нынешнему большинству).
Надо пояснить: политическое большинство — это не цифры, не социология. Это альянс значительной части истеблишмента с широкими слоями граждан, которые «ждут перемен». И Горбачев, и позже Ельцин – в определенные моменты располагали таким политическим большинством. Поэтому и можно было двинуть маятник в другую сторону. Но я не вижу сейчас, чтобы вокруг Центра стратегических разработок Кудрина формировалось какое-то «политическое большинство». Поэтому – о чем тут говорить? Находясь в меньшинстве, и в «противоходе» можно только обдумывать «стратегии меньшинства».
– А на мой взгляд, историю делает как раз не «большинство», но активное меньшинство. Даже если не вспоминать большевиков, разве литовский Саюдис в 1988-89 гг. был большинством? Но он быстро его набрал, поскольку сформулировал актуальную и привлекательную повестку дня. Может быть, проблема российской оппозиции в том, что она не может сформулировать внятной исторической альтернативы, скажем так – трансрегиональной, но продолжает мыслить категориями все той же империи, только «более либеральной»?
– Разумеется, победители пишут историю и всегда убеждены в том, что они предложили «повестку» и потому победили. И эта схема укрепляется в массовом сознании. Но, мне кажется, что реалистичный исторический взгляд не должен следовать за этим «триумфализмом». Меньшинство никогда не побеждает. Требуется совмещение уникальных многочисленных условий: раскол во власти и наличие влиятельных «реформаторов наверху», экономические проблемы, которые уже сильно сказываются на лояльности населения, сильные региональные движения. Или — война. Как это было в 1917. Или наличие профсоюза, который ведет 15-летнюю борьбу в масштабе целой страны, как в Польше и т. д. и т. п. Понятно, что никакая политическая группа, находящаяся в заведомом меньшинстве, не может за счет яркой риторики изменить систему власти.
А главное, проблема тут гораздо сложнее, чем нам казалось после окончания «бархатных революций» периода окончания борьбы двух блоков. Дело в том, что ни одна так называемая «революция» в конце ХХ – начале XXI века — при всех ожиданиях, энергии и ожидании перемен — не привела к фундаментальным изменениям политической системы ни в одной стране, где были «восстания центральных площадей». Правительства меняются, а реформаторские планы — захлебываются. Поэтому «бархатные революции» конца 80-х гг. теперь уже не пример для будущего. Произошли какие-то глубинные изменения в социальной ткани современных обществ. Вопрос об альтернативе теперь не так прост, как это было в период противостояния двух систем.
Моя точка зрения на регионализм такова: в культурном и экономическом отношении — это очень плодотворно. Но «политический регионализм» — это практически всегда правая, консервативная политическая утопия. (Довольно странное утверждение, если понаблюдать новосибирские монстрации, послушать ингерманландских музыкантов и т.д. — прим.ред.) В некоторых — тоже уникальных — случаях она может работать, создавая хорошие условия для региона в условиях национального государства. Но это — редкость. И, как я сказал, в начале — результат многовекового положения региона, его исторического статуса, силы его политической элиты, культурной традиции и многого другого. Сконструировать с пустого места статус Баварии для Калмыкии — можно попробовать. Но «баварии» там не получится. Там получится «дагестан».
– Недавно Вы стали руководителем Академического центра Бориса Немцова по изучению России, который открылся в Карловом университете в Праге. Поздравляю! Планируется ли включить в программу этого Центра вопросы изучения различных российских регионов?
– Да, несомненно! Региональная тематика обязательно будет в программе исследований Центра, у меня есть коллеги в Петербурге, Самаре, Новосибирске, Воронеже, Перми, Екатеринбурге, с которыми уже в ближайшее время мы начнем это обсуждать.
Беседу вел Вадим Штепа
См. полемический ответ автору Игоря Яковенко Чего хотят москвоцентристы?