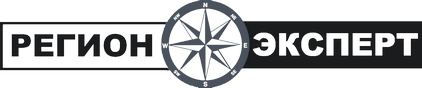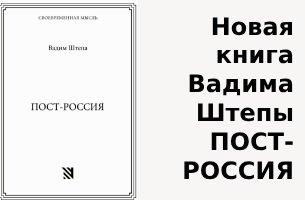Эссе о культурной подоплеке режима Дональда Трампа и возможных последствиях его действий
Победа на выборах в США Дональда Трампа породила цепную реакцию политических изменений в странах Европы, Северной Америки, даже Азии.
Политика, можно сказать, форматируется под Трампа, стремительно видоизменяясь даже в странах, которые лидерство Запада и США, в частности, категорически отрицают. Во-первых, происходит некое искривление привычного нам политического дискурса (или возвращение его к нормальности — оценка зависит от личных убеждений, предпочтений и приоритетов каждого). Во-вторых, в западных странах случаются неожиданные перемены (отставка канадского премьера Джастина Трюдо, укрепление Виктора Орбана и Роберта Фицо, заключение перемирия между Израилем и ХАМАСом, подъем праворадикальных партий в Великобритании и Германии). В-третьих, лидеры демократических стран чувствуют себя как минимум неуютно, что провоцируется, в частности, эскападами Илона Маска или непосредственно нового президента («объектами» нападок стали Кир Стармер и Найджел Фарадж в Великобритании, Олаф Шольц в Германии, Джастин Трюдо в Канаде). В остальных демократиях, которых не коснулись трансформационные усилия команды Трампа опасаются «волны популизма» и дергают рубильник аварийно-институциональных механизмов — в Румынии, например, так отменили первый тур президентских выборов, на которых победил малоизвестный несистемный политик. Правда, после отмены и в преддверии второй попытки, он все еще лидирует в опросах общественного мнения.
Кроме того, точно так же неуютно себя чувствуют и диктаторские или авторитарные лидеры (Китай, Россия, Катар). Россия, всячески стараясь сохранить лицо, более чем тепло приветствовала каденцию Трампа, демонстрируя (по крайней мере, на словах) свою приверженность намерению закончить войну, которую сама же и развязала. Поднебесная застыла в ожидании введения обещанных Трампом тарифов на китайские товары и выпрашивает отсрочку по вопросу о закрытии Тик-Тока. По всей видимости, своих целей в отношении диктатур (если таковые цели и были) Трамп достиг: «пальма первенства» в непредсказуемости как в решениях, так и политических ходах, которая всецело принадлежала россиянам и китайцам, испытывавшим мировой порядок на прочность, теперь перешла к нему.
Такая цепь событий естественным образом вызывает ощущение не до конца осознанных и понятых изменений в мировой и международной политике. Очевидно, что ситуация отличается не только от господства системоцентричного либерализма — политики, слишком привычной для нас где-то с начала 1990-х годов, но и от момента «первого пришествия» Трампа во власть в 2016 году — тогда он был всего лишь триггером, несистемным политиком, бросившим вызов, как он сам выражается, «болоту» глубинного государства. Сегодня же он — президент, изучивший горькие уроки 2020-го, когда deep state переиграл его вчистую, системно ведущий наступление на «экспертную диктатуру», более чем уверенно выигравший выборы 2024 года (несмотря на беспрецедентное давление, которое пытались оказывать на общественное мнение мейнстримные медиа) и обросший неким пулом подражателей среди мировых лидеров (достаточно посмотреть только список приглашенных на президентскую инаугурацию Трампа). Консенсус наблюдателей и аналитиков достигнут относительно того, что в политике происходит нечто. Но вот что именно происходит — по этому поводу нет согласия.
Самая распространенная версия: «популистская волна», которая поднимается в мире — в частности, в правой и крайне правой частях политического спектра — оппонирует глобализации и ведет даже демократические страны к той или иной версии автократии после ориентировочно 30–40 лет «третьей демократической волны». Однако, при всей ее логичности, эта версия подвергается критике за избыточную дескриптивную простоту.
Ларри Бартельс критикует такой подход. Для него популизм — фантом, созданный медиа и политическими элитами. Его наблюдения сводятся к таким выводам. Прежде всего, популизм не предпринимает согласованных действий и не представляет из себя единой движущей силы в глобальном масштабе. Во-вторых, его успехи не так уж велики: они преувеличены медиа и, соответственно, имеют инфодемическую природу. В-третьих, циклы успешности право-популистских партий и повышенное внимание общества к их «естественной повестки» (миграция, ксенофобия, недоверие к политикам, «ковидобесие») не совпадают. Кроме того, популистские политические силы бывают успешными и неудачливыми в зависимости от качества своего руководства. Далее, основным мотивом голосования за популистов является образование и воспринимаемая потеря статуса, а не уровень доходов, экономические сдвиги не играют существенной роли в росте популярности популистов. И наконец, поддержка популистских партий и кандидатов в современных западных демократиях обусловлена, в первую очередь, не экономическими, а культурными проблемами — упадок религии, эрозия национальной идентичности, размывание доминирования «большого белого» большинства и связанные с этим страхи значат больше, чем экономические неурядицы.
Общественное мнение на Западе по большинству типично “популистских” вопросов оставалось относительно стабильным на протяжении десятилетий, опровергая представление о том, что новый всплеск народного недовольства меняет политический ландшафт,
— делает вывод Бартельс. —
И в Соединенных Штатах, и во многих частях Европы успехи популистских и крайне правых сил связаны не столько с подлинным сдвигом в политических убеждениях среди общественности, сколько с изменением политики элиты. Другими словами, популизм движим развитием сверху вниз, а не снизу вверх: расширенное меню политических альтернатив для избирателей, более эффективная мобилизация давнего недовольства и тенденция основных политических лидеров уступать перед лицом вызовов, которые иногда более иллюзорны, чем реальны.
Собственно, анализ Бартельса лишний раз подчеркивает правоту теории популизма Эрнесто Лаклау (Laclau, 2005). Как известно, Лаклау (на которого Бартельс не ссылается и не опирается в своих исследованиях) считает популизм не каким-то негативным явлением или специальной идеологией, а фундаментальным дискурсивным механизмом, который лежит в основе политической артикуляции и формирования коллективных идентичностей. Популизм — всего лишь один из способов структурирования политического поля путем создания коллективной идентичности «народа» в его противопоставлении элитам (или, в современной терминологии, «болоту»). Таким образом, популизм есть своеобразный ответ на гегемонию элиты, которая захватывая дискурсивную власть, предписывает обществу «как надо, как хорошо, как правильно».
Популизм, по сути, это стратегия достижения такой же гегемонии, через систему, как выражается Лаклау, «пустых сигнификантов», в частности — наполняющегося значением в ходе политической борьбы «народа», противостоящего «элитам». Наполнение этого термина значением вовсе не означает пребывания «народа» в реальности. Зато оно помогает выстраивать логические последовательности, называемые Лаклау «цепочками эквивалентности,» через которые разные социальные группы связываются посредством общего дискурса. Основной мотив в данном случае — сделать Америку великой «снова», устранив тех, кто ей таковой становиться мешает, т. е., политиков и чиновников, институты и правила, ограничения и «вредные концепции» (вроде защиты меньшинств или климатической проблемы).
Итак, если брать во внимание основные положения теорий Лаклау и эмпирических аргументов Бартельса, популизм как дискурсивная стратегия, свойственная политикам per se, это феномен Системы (пользуясь терминологией Хабермаса), которая так или иначе пытается колонизировать жизненный мир (Lebenswelt), в данном случае используя его, жизненного мира, ключевые установки. Это стратегия и политический прием, который с необходимостью применяется всеми политиками в той или иной степени во время избирательных кампаний, когда требуется определенная идентификация, «слияние» политика и избирателя (иначе сложно достичь необходимых электоральных результатов). С помощью такого приема достигается дискурсивная гегемония той элитной группировки, которая была удачливее в использовании популистских приемов во время избирательной кампании.
Однако в данном случае речь идет нее просто о применении эффектного (и эффективного) политического приема, в результате которой одна группировка элит оказывается электорально удачливее другой. Мы проживаем в политике нечто большее, чем популизм. Он важен, но он недостаточен в качестве объяснения.
Масштабный политический сдвиг имеет культурную природу. Именно культурную, а не экономическую. Во-первых, циклы экономических кризисов и приход к власти популистских партий, как показал Бартельс, не совпадают. Во-вторых, повестка популистов как правило, с экономикой связана слабо или экономические вопросы не являются в ней ударными. В этой повестке преобладают иммиграция, национальная идентичность, предубеждение по отношению к меньшинствам, все остальное — включая экономические меры — избиратель додумывает уже сам. В-третьих, популистский сдвиг, даже выдвигая программу экономических преобразований (самая, пожалуй, последовательная у Хавьера Милея) не призывает к смене экономической модели. Возьмем классические 11 пунктов, которыми Филипп Мировски (Mirowski, 2018) определял неолиберализм. Ни один из этих пунктов не ставится под сомнение, не отрицается и не признается неприемлемым идеологией и политикой Трампа или близких к нему фигур — лидеров аналогичных популистских движений. То есть, даже если гнев и возмущение избирателя вызваны в конечном итоге экономическими факторами, предлагаемые решения лежат вовсе не в плоскости экономической модели: они содержат в себе меры именно культурного, идентичностного, даже геополитического характера.
Однако, дело даже не в пунктах политической повестки, вокруг которых происходят перемены — они не являются новыми для общества позднего модерна. Дело в способе предъявления этой повестки, если хотите, в культурном маневре, к которому прибегают популисты.
В чем же суть этого культурного маневра? Энн Эпплбаум в своей колонке для The Atlantic говорит, что нынешние политики-популисты бросают вызов Просвещению и, если формируют идеологию, то — это идеология нового обскурантизма, в рамках которой политика сливается с ненаучным мистицизмом и теориями заговора.
Когда я впервые написала о необходимости новой политической терминологии в 2017 году, мне было трудно придумать лучшие сроки. Но теперь контуры народного политического движения становятся более четкими, и это движение не имеет никакого отношения ни к правым, ни к левым, как мы их знаем. Философы Просвещения, чья вера в возможность правовых демократических государств дала нам Американскую и Французскую революции, выступали против того, что они называли обскурантизмом: тьмы, головокружения, иррациональности. Но пророки того, что мы можем сейчас назвать новым обскурантизмом, предлагают именно то: магические решения, ауру духовности, предрассудки и культивирование страха. Среди них знахари здоровья и влиятельные люди, развившие политические амбиции; поклонники квазирелигийного движения QAnon и его спин-офов в стиле Pizzagate; и члены разных политических партий по всей Европе, которые являются пророссийскими и антивакцинальными, а в некоторых случаях пропагандистами мистического национализма. Везде удивительные перекрытия. Как левый немецкий политик Сахра Вагенкнехт, так и правая партия «Альтернатива для Германии» пропагандируют скептицизм по поводу вакцины и изменения климата, национализм крови и почвы и прекращение поддержки Германией Украины. По всей Центральной Европе увлечение рунами и народной магией сочетается как с правой ксенофобией, так и с левым язычеством. Духовные лидеры становятся политическими, а политические деятели склоняются к оккультизму. Такер Карлсон, бывший ведущий телеканала Fox News, ставший апологетом российской агрессии, заявил, что на него напал демон, оставивший на его теле “следы когтей”. (Applebaum, 2025).
По мнению Эпплбаум, схожие феномены уже наблюдались в империях в состоянии, близком к распаду — будь то Венеция в XVI веке или Россия времен Первой мировой войны. Григорий Распутин становится для нее символом нового обскурантизма — слияния политики, оккультизма и магии. Эпплбаум вспоминает таких политических персонажей команды Трампа, как Тулси Габбард, Кеш Паттель и примкнувший к команде Роберт Кеннеди, чтобы лишний раз показать всю глубину ментальной деградации победивших республиканцев (справедливости ради стоит сказать, что колонка в The Atlantic — скорее политически обусловленное эссе, чем научная или философская статья). Однако, культурный прецедент трамповской политики она нащупывает верно. Точнее, мыслит в правильном направлении. Хотя аналогии проводит политически мотивированные и не совсем точные. Хотя бы потому, что наряду с иррационализмом и обскурантизмом названных ей членов команды в стройных рядах трампистов есть убежденные и рациональные республиканцы. Например, Вивек Рамасвами, предприниматель-биотехнолог и автор нескольких книг, в которых последовательно изложена его платформа неприятия господствовавшей при демократах woke-повестки и капитализма стейкхолдеров (Ramaswami, 2021).
Перед выборами 2024 года Рамасвами выступил с небольшой программной брошюрой «Истины: Будущее America first,» в которой изложил 10 принципов современного республиканского взгляда на мир, среди которых такие неконвенциональные идеи, как реальность Бога как высшего принципа, взгляд на борьбу с изменением климата как на мистификацию, идея прочности государственных границ, наличия только лишь двух полов, отрицание господства deep state по сравнению с избираемым политическим руководством, утверждение святости и практической ценности «традиционной» нуклеарной семьи, «теории заговора» как феномен свободы слова и прочее (Ramaswami, 2024). Эти тезисы вовсе не бесспорны, при желании к ним можно выдвинуть массу контраргументов, но никакого обскурантизма и тем более «распутинщины» в них нет. А что есть — и не только в программной книге Рамасвами, но и в практических действиях команды, пришедшей к власти в США, так это последовательная деконструкция, полное отрицание и, можно сказать, зеркальное отображение повестки, в течение довольно длительного времени навязываемой американскими демократами, да и вообще представителями элитарного способа правления.
Посмотрим на ключевые новации Дональда Трампа и его команды в первый месяц после инаугурации: высылка иммигрантов и тарифный конфликт в этой связи с Колумбией; отмена процентной нормы по политике разнообразия; отмена форсированной гендерной политики; федеральный указ, согласно которому в Америке признаются всего два пола; запрет трансгендерам участвовать в женском спорте; отсрочка запрета Тик-Тока; выход из Парижского климатического соглашения и Совета ООН по правам человека; признание наркокартелей террористическими организациями; выход из Всемирной организации здравоохранения; пауза в международной помощи от США, возможная ликвидация USAID; предложение сотрудникам ЦРУ уволиться с сохранением 8-месячной зарплаты в рамках стратегии сокращения чиновников; объявление чрезвычайного положения на границе с Мексикой; введение/отсрочка торговых пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады; угроза введения пошлин против ЕС; переименование Мексиканского залива – список действительно впечатляет. Очевидно, что мы наблюдаем не просто попытку отстроиться от элитарной политики последних десятилетий, не просто расставить свои акценты и тем самым откорректировать ее, но стойкое намерение перевернуть политику вообще, совершить и на внутренней, и на внешней арене некие зеркальные действия, «действия-антиподы», подвергая сомнению и ставя под вопрос все, на чем держалась политика в эпоху глобализации. Какие-то меры при этом отсылают нас к политическим реалиям до Первой мировой войны и даже эпохи меркантилизма, какие-то целиком могут быть рассмотрены как продолжение политики Джефферсона, Гамильтона, Рейгана и других американских лидеров. Но это не должно нас обманывать: ключевым намерением тут, похоже, является сделать «не так», как сделали бы демократы и представители чиновничьего «болота».
Самая сильная культурологическая аналогия, которая при этом приходит на ум, глядя на все это — концепция народной смеховой культуры Михаила Бахтина. Как известно, в своей работе о Франсуа Рабле, опубликованной более шестидесяти лет назад, Михаил Бахтин сформулировал концепцию народной смеховой культуры, которая в средние века и эпоху Ренессанса существовала в Европе в XVII–XVIII веках, начинает перерастать и вырождаться в различные формы литературного гротеска, а к ХХ веку практически исчезает (Бахтин, 1990).
Характерной чертой этой народной культуры было ее оппонирование официальной культуре, связанной с церковью, государством и феодальной иерархией. Строгие догмы, запреты и однозначности культуры официальной превращались в народной культуре и карнавале (как кульминационном событии дозволенного обесценивания официальной культуры) в свободу от всяческих канонов и предписываемого поведения, выстраивание альтернативной (зеркальной) социальной иерархии (где правители и подданные фактически менялись местами на время карнавала), акцент на материальной жизни и телесности в противовес духовному и горнему официальной культуры (особенно симптоматичны регулярные обращения к символике телесного низа). Бахтин писал об этом так:
Все эти обрядово-зрелищные формы, как организованные на начале смеха, чрезвычайно резко, можно сказать, принципиально отличались от серьезных официальных — церковных и феодально-государственных — культовых форм и церемониалов. Они давали совершенно иной, подчеркнуто неофициальный, внецерковный и внегосударственный аспект мира, человека и человеческих отношений;’ они как бы строили по ту сторону всего официального второй мир и вторую жизнь, которым все средневековые люди были в большей или меньшей степени причастны, в которых они в определенные сроки жили. Это — особого рода двумирность, без учета которой ни культурное сознание средневековья, ни культура Возрождения не могут быть правильно понятыми. Игнорирование или недооценка смеющегося народного средневековья искажает картину и всего последующего исторического развития европейской культуры. (Бахтин, 1990, с. 10).
На доклассовых стадиях развития общества, говорит Бахтин, эти два пласта не противопоставлялись друг другу, они были одинаково значимыми. И только с приходом средневековья и соответственно, четкого представления о социальной иерархии, народная культура и ее публичные проявления служат в качестве «снятия» социальных противоречий, которые неизбежно возникали в рамках предписывающей, строго догматической официальной культуры. Постепенная ее деградация, выход на маргинес в виде литературного жанра не должно нас озадачивать: известно ведь, что история повторяется не буквально, но гомологически, структурно.
Действия команды Трампа как нельзя лучше направлены на полное переворачивание либеральной повестки эпохи глобализации: позитивной дискриминации меньшинств, толерантности к международным террористическим и коммунистическим движениям, которые обнаруживают договороспособность, культуры отмены, политики разнообразия и так далее. Эта повестка справедливо расценивается населением как «колонизация жизненного мира Системой» (в терминах Юргена Хабермаса), хотя каждый ее элемент начинал свою эволюцию как эмансипационный: например, та же «борьба за права женщин и негров». Эта повестка отрицается на уровне коллективных представлений, но поскольку говорить о таком отрицании было запрещено или по крайней мере социально неприемлемо, недовольство повесткой играло роль кастрюли с кипятком и плотно закрытой крышкой. Рано или поздно крышку должно было сорвать. Это и произошло: Трамп победил уверенно, это было не похоже не только на проигрыш 2020-го, но и на первую неуверенную победу 2016-го года. Между первым и вторым сроком Трампа произошло многое: прежде всего политики под схожей с Трампом риторикой, стали лидерами во многих странах (Аргентина, Сальвадор, Словакия, Италия; в Израиле и Венгрии они лишь укрепили позиции).
Продолжая использовать хабермасовскую терминологию, мы можем говорить о том, что Михаил Минаков недавно назвал обратной колонизацией, т. е. колонизацию Системы жизненным миром. Вот как он пишет:
Модель модерности с ее сложной пространственно-временной структурой должна учитывать тот факт, что модернизационные трансформации обществ могут быть (и бывают) обратимыми. Переходы от локальных специфических форм абсолютизма к национализму, от индустриализма к постиндустриальности не обязательны. В некоторых случаях переход случается в обратном направлении: бывает и так, что общество движется от так называемого более позднего периода модерности к предыдущему (либо имитирующему прежний, но с не меньшим ущербом для современности). Я считаю, что эта демодернизация происходит в тех ситуациях, когда автономные институты Системы колонизируют жизненный мир до такой степени, что сама Система теряет способность к воспроизводству. Колонизация Системой жизненного мира ведет к истощению живительных ресурсов и смыслообразующих ценностей общества. В этих ситуациях происходит парадоксальная обратная колонизация Системы: если Хабермас, основываясь на опыте западных обществ и продолжая традицию критики модерна, начатого Хоркхаймером и Адорно, рассматривал лишь влияние автономных институтов на жизненный мир, то опыт восточноевропейских обществ говорит и об обратной колонизации. В кризисные моменты Система начинает употреблять ресурсы таких институтов, как церковь, родственные связи или местные общины, которые подрывают строй инструментальной рациональности, изобретают некие извращенные формы архаичного в современном, используют традиционные наименования для гибридов Системы и жизненного мира. Таким образом, модель сложной модерности должна быть дополнена динамической сложностью переходов. (Минаков, 2020, с. 21).
Заметим, что Минаков говорил об обратной колонизации как явлении, характерном для переходных обществ Восточной Европы, однако, как мы можем наблюдать сегодня, этот феномен характерен и для обществ, считающихся развитыми демократиями. «Политика здравого смысла», объявленная Трампом в его инаугурационной речи, выдает подоплеку происходящих перемен: политика должна руководствоваться именно «здравым смыслом», то есть обыденным сознанием и эпистемологической средой среднего избирателя, а не модными теориями эмансипации, управления сложностью общества, защиты интересов меньшинств, общественной саморегуляции, предполагающим появление новых игроков из гражданского сектора. Именно этот феномен, интуитивно понятный большинству избирателей стал тем «пустым сигнификантом», вокруг которого осуществлялась и осуществляется популистская стратегия Трампа и его команды.
Вопрос в том, насколько эта стратегия долгосрочна и чего стоит ожидать от той беспрецедентной синхронизации политика с сознанием рядового избирателя? — Успех Трампа на выборах и после связан как раз с тем, что у него не обнаруживалось никаких скрытых мотиваций и неискренности позиции. Более того, его гетероглоссия идеально вписывает его в народную культуру, делает символом противостояния официальной, «демократической,» когда четко выверенные слова прикрывали системный деспотизм и господство одной точки зрения («моноправды»).
Однако, в самой риторике команды Трампа заложены противоречия, которые сегодня «политики здравого смысла» стараются игнорировать или по крайней мере, не придают им ведущего значения. Например, это упоминавшееся уже противоречие о том, что несмотря на глубинные преобразования, намеченные на дискурсивном поле, в социальных взаимоотношениях и в политике, трамповская программа не предусматривает смены экономической модели: она остается все такой же неолиберальной, а с учетом сокращения чиновников, — даже более неолиберальной. Потом, нет данных о планах ликвидировать ограниченную ответственность владельцев и топ-менеджмента корпораций, которая в конечном итоге позволяла им влиять на ход американской публичной жизни — эти проблемы не были забыты, они содержались в программных дискуссиях республиканцев, частности, упоминавшейся уже книге Вивека Рамасвами «Woke, Inc.». Наконец, противоречие между электоральной (белые мужчины ниже среднего класса) и ресурсной (техногиганты Силиконовой Долины) базами Трампа.
Практика показывает, что подобное трамповскому «креативное разрушение» в политике должно рано или поздно смениться созданием новой, своей системы. Или же возвращением к старой, в том или ином виде. «Политика карнавала» не может продолжаться сколь угодно долго, она имеет свои временные границы. Она нестабильна по определению и ищет аттрактор, вокруг которого сможет стабилизироваться.
Создание «новой системы», больше похожей на Америку XIX столетия, чревата обострением противоречий, уже переживавшихся Штатами (например, произвол корпораций-монополистов). Возможно, результатом станет система-гибрид, сочетающая в себе черты демократии и диктатуры, к которой ныне, после ковида, в эпоху «нового этатизма» (Паоло Гербаудо) начинают дрейфовать практически все ведущие демократии мира, кто медленнее, кто быстрее. Возвращение же «правительности» (Мишель Фуко) эпохи элитаризма пока кажется маловероятным. Но в том или ином виде все же возможно — в тот момент, когда политические элиты вдоволь наиграются в «политику карнавала» и перед ними встанет извечная проблема: как же все-таки контролировать население?
Полная версия статьи со всеми ссылками и библиографией в оригинале – Koine
_____________________________________________________
Подписывайтесь на Телеграм-канал Регион.Эксперт
Поддержите независимый регионалистский портал