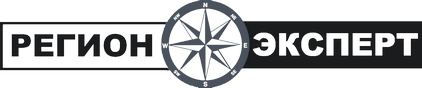Свои познания в антропологии я оцениваю очень скромно — как предельно поверхностные. Освоить эту дисциплину исключительно по научно-популярной литературе, конечно, невозможно, но получить кое-какое представление о ней — вполне реально. И такое представление, достаточное для того, чтобы осмелиться задавать вопросы, я однозначно получил.
Впрочем, задать вопрос — ещё не значит получить на него ответ.
Одним из таких «неудобных» вопросов стал вопрос о возникновении, неимоверно быстром по историческим меркам, особой общности — «калининградцев».
То, что эта общность к началу XXI века уже возникла, отметил выдающийся — к сожалению, ныне покойный — культуролог и философ Григорий Померанц:
…когда я бывал в Кёнигсберге, увидел, к своему удивлению, — я думал, это остался какой-то аппендикс и ничего интересного, отпадёт, — ничего подобного, там возникла очень своеобразная субкультура, в большой дружбе с поляками и совершенно не склонная к евразийству и т. д. И масса мыслящих людей там оказалась. Причём, откуда они там взялись? От своего местоположения, от «вдвинутости» в Европу, не то, что там были какие-то семьи со старыми традициями — нет. Родители были просто строителями, которые из руин возрождали город, а дети их, находясь в контакте с живой Европой, получились более европейско-ориентированным кусочком России.
Померанц использует эвфемизм «просто строители», но я не стану миндальничать: то были не какие-то непонятные «строители», а вполне определённые советские подданные, привезённые на аннексированную территорию, чтобы заменить уничтоженное и «перемещённое» прежнее население — немцев.
На Потсдамской конференции Сталин окончательно настоял на том, чтобы Восточную Пруссию признали «колыбелью германского фашизма» и разделили между вновь создаваемой Польшей и СССР. Он заранее позаботился максимально обезлюдить намеченную к аннексии область: велел устроить мирному населению Восточной Пруссии показательный ад, чтобы спровоцировать его бегство в «материковую» Германию. («Освободители» уже не могли остановиться, но это тема для другого повествования.)
По данным регистрации от 1 сентября 1945 г. на аннексированной СССР территории проживало около 130 тысяч немцев, среди них — почти 45 тысяч детей до 17 лет. Это менее 6% от довоенной численности, составлявшей около двух с половиной миллионов. Но и они были «лишними» с точки зрения нового хозяина, обитателя Ближней дачи. Исход, точнее, депортация тех, кто не умер и не бежал в период страшного голода 1946/47 гг., начался позже, в 1948 году. Большинство было переселено в советскую оккупационную зону Германии. К концу сороковых область была практически «очищена» от коренных жителей.
Я подробно остановился на этом моменте, чтобы подчеркнуть: контакт немцев с советскими переселенцами «с материка» был минимальным, «культурного транзита» как такового не случилось и случиться не могло. Семисотлетняя история немецкого переселенчества завершилась. Исчезли с карт прежние топонимы и гидронимы, переименованы города и посёлки. Множество зданий, церквей, фольварков уничтожено, разобрано на кирпич, снесено как не подлежащее восстановлению после боёв. Разрушена сложнейшая ирригационная система, немалая часть сельхозугодий заболочена и пришла в упадок. Всё советизировано и выхолощено настолько, насколько это возможно. Задача — стереть все следы прежней культуры — выполнена если не на 100%, то очень близко к тому.
Казалось бы, советизация, да ещё и при практически полном отсутствии системной, документированной памяти о прошлом (не считать же таковой могилу Канта?), в условиях, когда даже число материальных следов прежней цивилизации сведено к минимуму, а население перемещено и перемешано, носит окончательный и необратимый характер. Но в конце восьмидесятых и начале девяностых начинаются совершеннейшие чудеса. Появляется Балтийская Республиканская партия, а также многочисленные «неорганизованные» группы, явно ориентированные не только на демонтаж советчины, но и на разрыв с «материком»-Россией, — даже если такие настроения не артикулируются явным образом, их невозможно не замечать.
В городах области появляются энтузиасты, устанавливающие контакты с немцами — потомками изгнанных, происходит какой-то необъяснимый «возрожденческий» бум: вполне очевидно, что последствия его могут сделаться для нынешнего населения довольно неудобными вплоть до неприятных, но всё идёт по нарастающей, и сегодня в Калининграде (Кёнигсберге) или Балтийске (Пиллау) буквально шагу не ступить без того, чтобы не наткнуться на вывеску или указатель, эксплуатирующий германоцентричное и немецкоязычное прошлое региона. Масштаб происходящего настолько впечатляющ, что «охранители» бьют тревогу и строчат публичные доносы на «крамолу»:
В городе и области проходит явная германизация региона. Город завешан фотографиями немецкой застройки, вывески магазинов, ресторанов и гостиниц пестрят немецкими названиями,
— пишет в кляузе некий местный архитектор с «говорящей» фамилией Невежин.
Вряд ли всё это можно списать на банальное «низкопоклонство перед Западом», характерное и для российской глубинки, где тоже нередки магазины, кафе и рестораны с громкими иностранными названиями. В бывшей Восточной Пруссии происходит нечто гораздо более интересное. Но что именно?
Любой, кто общался с «калининградцами», подтвердит, что они в самом деле отличаются от «материковых» русских. Однако «вдвинутость» в Европу и более или менее интенсивный обмен технологиями, продуктами и идеями, о котором упоминает Померанц, начался лишь четверть века назад, а до этого был практически наглухо заблокирован. Между тем уже в 2005 году Померанц отмечает существование «особой общности» — т.е., по-видимому, для её формирования хватило десяти лет? Да это же немыслимо. Значит, процесс, пусть подспудно, но шёл всё предшествовавшее время? Но как такое возможно?!
Честно признаюсь — моё материалистическое воспитание и рациональный склад ума не позволяют мне призывать на помощь античную мифологию и разводить турусы на колёсах о «гении места», как называли эллины и вслед за ними ромеи разумных духов — хранителей пространств. Даже в переносном смысле это довольно затруднительно: «гением места» именуют увлечённых краеведов, ревностно оберегающих особенную атмосферу своей малой родины — но таких людей среди советских переселенцев просто не могло быть по определению. Между тем пресловутая «германизация», пусть и с разной скоростью в разных аспектах, совершенно очевидна, — настолько, что только слепоглухонемой способен её не заметить. Так что же это за явление, с которым мы имеем дело?
Ответ на этот вопрос, важнейший для движения регионалистов — не только в России, но и во всём мире — может дать только наука антропология, но нет сомнений, что это, увы, не произойдёт ни завтра, ни в среднесрочной перспективе. Нужны кропотливые и тщательно верифицируемые исследования на стыке наук — собственно антропологии, а также геологии, климатологии, географии и других дисциплин, естественнонаучных и не только. Социальное, поведенческое, несомненно, является надстройкой над материальными процессами, природа которых нам сегодня не ясна. Нам ещё только предстоит разобраться, почему так непохожи друг на друга, например, фенотипически и генетически похожие немцы, австрийцы, швейцарцы, тирольцы и аллеманы, почему потерпели крах попытки объединить их в рамках умозрительной «германской нации» — и почему столь же бесплодны попытки унификации русских в котле «российской империи», с царским ли, с коммунистическим ли «акцентом». В своём романе «Год Дракона» я лишь едва коснулся этой темы — не обладая знаниями для её развития, я не мог её не обозначить.
— Антропология — самая несчастная из наук, — мрачно отозвался Майзель. — В прошлом веке её обесчестил Гитлер, и теперь о связи народа с землёй, на которой он живёт, о том, как влияют климат, ландшафт и рельеф на веру, язык и характер, запрещено говорить. Идею о том, что все люди должны быть равны перед законом, подменили идеей, будто все они одинаковы. Но когда-нибудь мы узнаем, что и как делает нас такими, какие мы есть. Одним майоратом и жаждой золота ничего объяснить не получится! Почему, например, Колумб и Лаперуз, Беринг и Дрейк, Крузенштерн и Лисянский отправлялись навстречу стихиям на утлых судёнышках, имея при себе лишь компас с астролябией, и возвращались с триумфом, и почему даже султану Мехмету, носившему громкое прозвище «Завоеватель», не пришло в голову отправить Хайреддина Барбароссу хотя бы следом за Колумбом. Только честно ответив на самые неудобные вопросы, мы сумеем заставить симфонию человечества зазвучать во всём многообразии и глубине её отдельных нот.
Симфония человечества — по-моему, не такая уж плохая идея, противоположная унификации и гораздо более плодотворная. Мне кажется, стоит поработать над её воплощением.